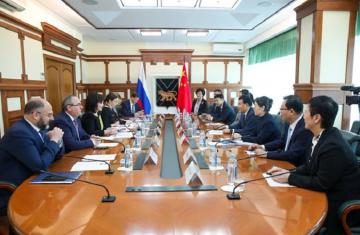Как молоды мы были...
Разумеется, я ничего не подрывал, я с детства был осторожен и не болтлив, постоянно памятуя внушаемое мне настойчиво с дошкольного, наверное, возраста и бабушкой, и дяшкой Круподеровым, и - с непременными угрозами и сованием кулака под нос - дедом: "Не болтай!.. Держи язык за зубами!.. Помалкивай!..
(Продолжение. Начало в номерах за 9 и 10 августа)
Разумеется, я ничего не подрывал, я с детства был осторожен и не болтлив, постоянно памятуя внушаемое мне настойчиво с дошкольного, наверное, возраста и бабушкой, и дяшкой Круподеровым, и - с непременными угрозами и сованием кулака под нос - дедом: "Не болтай!.. Держи язык за зубами!.. Помалкивай!.. Короткий язык - залог здоровья и долгой жизни!.. Плевку там не разевай!.. О политике не разговаривай и рта не открывай, иначе посадят и тебя, и всех нас! Будешь болтать - мозги вышибу!..". Особенно меня наставляли, когда я отправлялся в соседнюю деревню к приятелю и однокласснику Егорке Клюкину, чей отец был партийцем и занимал в районе какую-то должность - его возили на тарантасе. И бабушка, и дед жили в убеждении, что коммунисты обязаны доносить о всех разговорах куда следует и получают за это деньги, ради денег они якобы могут запросто упрятать в тюрьму любого, отчего бабушка называла членов партии иудами или христопродавцами, а дед - лягавыми. Мои отец и мать были коммунистами, и после долгих размышлений я, не выдержав, спросил у бабушки: они что, тоже иуды или лягавые? "Не знаю, не знаю!" - с явным недовольством, неопределенно ответила она.
С малых лет дед внушал мне не только осторожность, но и недоверие к людям, частенько повторяя: "Надейся на печь и на мерина!..". Если же бабушки рядом не было, он и пятилетнему излагал мне этот житейский афоризм полностью: "Надейся на печь и на мерина: печь не уведут, а мерина не у...бут!".
Воспитание во мне осторожности продолжалось и в армии. С первого раза я усвоил напоминаемое мне время от времени стариком Арнаутовым предупреждение, именуемое им "молитвой от стукачей": "Оглянись вокруг себя, не скребет ли кто тебя!..". Однажды старик, подвыпив до стадии непосредственности, доверительно разъяснил мне, что в Советском Союзе каждый пятый человек - осведомитель органов НКВД и что на этом, мол, основана крепость государства.
Проблема восхваления образа жизни, точнее материальных условий за границей и так называемого низкопоклонства, возникла, когда мы вступили на территорию европейских стран. В письмах из действующей армии в Россию стали описывать чистоту и порядок, отличные ровные дороги, добротные дома в городах и деревнях и невиданное обилие мебели, одежды, продуктов и различных удобств в квартирах. Военная цензура вылавливала все эти удивления и восторги и тотчас сообщала Военному совету армии с указанием фамилий и номеров полевых почт отправителей писем, с ними затем в частях проводилась разъяснительная и воспитательная работа - как правило, она сводилась к строгому предупреждению, что при повторении виновные будут преданы суду военного трибунала.
Еще осенью сорок третьего года на Брянщине, когда мы мылись в крохотной задымленной баньке, Арнаутов просветил меня, что чем больше в письме патриотизма, тем быстрее и надежнее оно доходит: кому бы ты ни писал, все должно быть "бодро-весело", без какого-либо рассусоливания, жалоб или тягот, и, естественно, я был осторожен, как, впрочем, и большинство офицеров; что же касается рядовых и сержантов, то, оставаясь один на один с листком бумаги, они расслаблялись и нередко забывали, что все до строчки читается и просматривается военной цензурой, почему и случались неприятности.
Я помнил, как майор Елагин дважды появлялся по этому поводу в роте - первый раз это было на хуторе под Цюллихау: я строил людей, и он напористо разъяснял, что "советский воздух самый чистый", а "советский кипяток самый горячий", об этом следует помнить днем и ночью и сообщать буквально в каждом письме - других мнений быть не может. Помню, как погибший вскоре сержант Ивченко, в те дни комсорг роты, растерянно спросил, что можно и как следует писать домой о Германии и о немцах, и Елагин, не моргнув глазом, ответил: "Очень просто! Пирог - говно, хозяйка - блядь и фартук у нее обосранный! Каждого из вас в письмах должно тошнить от всего, что вас здесь окружает! Это и есть советский патриотизм! Других указаний нет и не будет!".
Я-то уловил в ответе Елагина иронию или насмешку, но Ивченко и остальные наверняка не заметили или не поняли.
И другие переведенные одновременно вместе со мною из дивизионного медсанбата в армейский госпиталь там же, в Фудидзяне, офицеры тоже ничего лишнего, полагаю, не говорили и наверняка при людях заграницу не восхваляли - только дурак не поостерегся бы и не подумал, чем это может окончиться, однако всех нас откомандировали, точнее сказать, выкинули из дивизии, хотя никаких претензий у командования к нам не было, более того, четверо из шести, в том числе и я, за две недели боев в Маньчжурии были представлены к правительственным наградам. И на Западе, в Европе, мы честно делали "Отечку", и не две недели, а кто два, кто три, а кто и четыре года, и досталось там каждому из нас несравненно больше, чем на Дальнем Востоке. Выходило все это несправедливо, оскорбительно и совершенно непонятно: с одной стороны, и московская "Красная звезда", и армейская, и дивизионная газеты писали о "бесценном боевом опыте" офицеров, прошедших войну с Германией, нас называли "золотым фондом офицерского корпуса", с другой стороны, нам, по сути дела, не доверяли, относились как к прокаженным или заразным и, пользуясь случаем, откомандировали, а фактически выгнали из дивизии, хотя вся наша вина заключалась в том, что во время боевых действий, командуя взводами, ротами или батальонами, мы побывали за границей и увидели, как там живут. Тогда, осенью сорок пятого года, после откомандирования, ощущая свою обездоленность, я с обидой и неизбывной болью не раз думал ночами: "За что?!".
Официально - в приказах и директивах - об этом нигде не сообщалось, однако полковник Зудов был не оригинален и отнюдь не одинок. Позднее, в другом соединении, начальник политотдела подполковник Китаев, тоже коренной дальневосточник, публично называл всех воевавших на Западе, за границей, людьми, "подпорченными Европой" или "подванивающими Европой". На офицерских политзанятиях он, делая жесткое враждебное лицо, говорил: "К сожалению, как мне доподлинно стало известно, среди вас находятся людишки со зловонной гнильцой, считающие возможным вспоминать буржуазный образ жизни без принципиального категорического осуждения. Приказываю: забудьте все, что вы там видели!.. Самое же опасное, что подобные антисоветские высказывания не встречают у офицеров гневного отпора! Вся эта зловонная, разлагающая гниль в армии нетерпима, и мы будем выжигать ее каленым железом!".
Он заявлял нам это в глаза, не скрывая своего презрения и неприязни и ничуть не смущаясь тем, что воевавшие на Западе и, следовательно, "подванивающие Европой людишки" составляли не менее трех четвертей сидевших или стоявших перед ним офицеров.
Когда на политзанятиях или на совещаниях слышалось то и дело сообщаемое подполковником Китаевым "как мне доподлинно стало известно", естественно, невольно возникал вопрос, от кого, офицеры начинали посматривать друг на друга, задумывались, и всякий раз мне приходила на память арнаутовская "молитва от стукачей", впрочем, убежденный в своей осторожности, я не беспокоился и ничуть не волновался.
По пути из Хабаровска во Владивосток
После недельного пребывания в армейском госпитале там же, в Фудидзяне, тринадцатого сентября меня в группе из семнадцати офицеров направили во Владивосток для получения назначения и дальнейшего прохождения службы. От Харбина мы добирались на попутных грузовиках мимо уже выкошенных нескончаемо однообразных полей чумизы и гаоляна, под Хабаровском переправились через Амур и еще более суток тащились пассажирским поездом, удивительно тихоходным по сравнению с эшелоном, мчавшим нас два месяца назад из Германии на Дальний Восток.
Мы ехали, занятые преимущественно своими мыслями, озабоченные тем, куда нас пошлют, где придется служить, куда забросит судьба, а точнее, ведающий офицерским составом отдел кадров только что образованного Дальневосточного военного округа. Большинство из нас, кроме тех сибиряков, мечтало получить назначение за Урал, в европейскую часть страны, или в одну из четырех групп войск за рубежом, к примеру, в ту же Германию, ничуть не подозревая, сколь нереальны эти желания.
В вагоне по дороге из Хабаровска во Владивосток меня впечатлили голодные и полуголодные люди, особенно дети, худенькие и бледные, с жадностью смотревшие на любую еду, даже если это была вареная картофелина или кусочек черствого хлеба.
По сути дела, уже года полтора я был отдален от жизни и быта своих соотечественников, гражданского населения России, питаясь по первой фронтовой норме, дополняемой "подножным кормом", добываемым у местных жителей в Западной Белоруссии, Польше и Германии, и начиная с июля сорок четвертого года весьма обильно трофейными продуктами. В госпитале и медсанбате по десятой норме кормили тоже вполне достаточно, с белым хлебом, компотом или киселем и даже суррогатным кофе - напиток этот я раньше никогда не пил и не пробовал, он казался мне заморским деликатесом, вкусным и ни на что не похожим.
Когда два месяца назад нас везли через всю Россию на Дальний Восток и начиная от Смоленска я, лежа в теплушке на нарах, подолгу, часами, смотрел в отверстие от сучка, меня неизменно удручали обилие бедно, а то и нищенски одетых, судя по всему, голодных людей, их невеселые, озабоченные, исхудалые лица. На станциях в толпе пассажиров бросались в глаза безрукие и безногие на низеньких тележках или с костылями инвалиды в шинелях и матросских бушлатах. Мы проезжали поросшими сорняками, невыкошенными в конце июля, словно никому не нужными полями - при остановках на разъездах я дважды убедился, что, видимо, из-за ранней весны хлеб уже переспел и осыпался. Где-то в Поволжье я впервые увидел впряженных в телеги отощалых коров, а за Барабинском - вдоль железнодорожного полотна телегу с мешками, ухватясь за оглобли, с натугой тянули восемь или девять немолодых женщин и седых старух, как я успел заметить, почти все они были без обуви - босиком. Скудость, нищета и запустение воспринимались после Германии особенно контрастно и болезненно.
Кроме необъятного вселенского простора, голубого ясного неба и невиданной ранее многообразной природы - средняя Россия, Поволжье, Урал, Западная, а затем Восточная Сибирь и, наконец, Забайкалье, - кроме российских лесов и полей, ничто вокруг не радовало в долгом, почти двухнедельном пути. Тогда, во второй половине июля сорок пятого года, по дороге на Дальний Восток, пусть в условиях ограниченной видимости, разглядывая Отечество, я, может, впервые по-настоящему задумался о цене нашей победы в этой страшной четырехлетней войне и о том, сколь опустошена, надорвана и обездолена Россия, разумеется, не представляя точно или даже приблизительно ни глубины, ни размеров этого опустошения и обездоленности.
Если тогда, два месяца назад, я разглядывал своих соотечественников на ходу, из эшелона, на расстоянии, коротко и отрывочно, то теперь, по пути во Владивосток, имел возможность увидеть их бедность, нужду и страдания вблизи.
Молодая вдова морского офицера
Более других в том вагоне мне запомнилась красивая, статная женщина лет двадцати восьми, удивительно горделивой осанки, с толстой, соломенного цвета косой, уложенной двумя кольцами на голове и большими светло-зелеными, опухшими от слез глазами. На ней был строгий темно-серый костюм - пиджак с модными тогда накладными плечами - и никаких украшений, и на лице - ни малейшей подмазки. Большую часть времени она проводила в дальнем от нас глухом нерабочем тамбуре, где, отворотясь в угол и прикрывая лицо носовым платком, а к вечеру вафельным полотенцем, часами беззвучно давилась слезами, время от времени содрогаясь от рыданий; когда к ней подходили, она повторяла одно и то же: "Уйдите: Оставьте меня в покое:". Как все же выяснилось, ее муж, морской офицер, капитан второго ранга, тяжело раненный при высадке десанта, кажется, в Порт-Артуре, и доставленный во Владивосток, умер там спустя месяц в госпитале, и она ехала из Хабаровска на его похороны. Всякий раз, когда она вставала, чтобы выйти из купе, ее сынишка, светловолосый, не по-детски сосредоточенно-молчаливый мальчик лет четырех или пяти, в аккуратном матросском костюмчике с длинными брюками, пытался ее остановить, удержать, брал за руку и, быть может, повторяя чьи-то слова, взволнованным, срывающимся полушепотом не по возрасту серьезно говорил: "Мамочка, я тебя прошу: я тебя очень умоляю - не надо! Не вздумай делать глупости! У тебя есть я и есть бабушка!..". Нагибаясь, она целовала его в щеку или в висок и, закусив нижнюю губу, покидала купе, а он усаживался к окну. Мы не раз пытались его угостить, предлагали чай с сахаром и печенье из офицерского дополнительного пайка, однако он от всего без колебаний отказывался - "Спасибо, не надо!" - и часами сидел сосредоточенный на нижней полке в настороженном печальном ожидании возвращения матери. Когда я ночью проснулся на верхней багажной полке от жары и духоты и спустился попить воды, он спал, накрытый шерстяным платком, а матери в купе опять же не было. Я увидел ее в том же полутемном тамбуре: мерно раскачиваясь, изгибаясь телом, как в забытьи, она странно тихонько мычала или выла от горя, время от времени срываясь на стон, и не замечала меня, стоявшего в двух или трех от нее метрах в растерянности и нерешимости - что я мог ей сказать и чем помочь?
В полдень, когда мы подъезжали, она сидела в купе по-деловому собранная, подтянутая, с царственным достоинством - необыкновенно прямо и чуть откинув назад небольшую пленительную головку на высокой красивой шее.
Потом, наклоняясь, подолгу шепотом разговаривала с сыном, пыталась с ним шутить и даже улыбаться, только запавшие, трагически скорбные глаза и еще более осунувшееся за сутки лицо выдавали ее душевное состояние. Заметна была припудренная полоска синевы на покусанной нижней губе, и проглядывал из-под пудры немалый синяк у корней волос в верхней части лба - видимо, ночью, в забытьи, она билась или же ударилась головой о стенку тамбура. Правой рукой она все время обнимала сына, и на безымянном пальце обманно, как у замужней женщины, по-прежнему желтело тонкое обручальное золотое кольцо, хотя, как я знал, его полагалось снять и носить теперь на левой руке.
Во Владивостоке, когда поезд замедлил ход перед тем, как остановиться, она накрыла голову черным шерстяным платком, надвинув его по-монашески, чуть ли не до бровей, очевидно, чтобы прикрыть синяк в верхней части лба, и тут я без колебаний предложил поднести, куда потребуется, ее большой чемодан, хотя отчетливо сознавал, как я рискую: после августовского приказа наркома обороны о введении ординарцев офицерскому составу категорически запрещалось носить что-либо в руках, кроме маленьких аккуратных свертков и чемоданчиков размером не более портфеля. "Спасибо", - даже не глянув в мою сторону, сдержанно и отстраненно поблагодарила она и в следующую минуту, стоя у окна, приветственно подняла руку - за мутным, покрытым серой пылью стеклом я увидел на перроне не менее десятка встречавших ее морских офицеров и понял, как некстати прозвучало мое предложение.
Спустя десятилетия, когда я вспоминал послевоенную Россию, многострадальную великомученицу, донельзя изнуренную четырехлетним напряжением всех сил и средств, опустошенную гибелью десятков миллионов и на последнем дыхании дотянувшуюся до Победы, когда я вспоминал необъятную тыловую Россию, которую летом и осенью сорок пятого года я видел урывками между Германией и Маньчжурией, Маньчжурией и Владивостоком, еще более восточной частью света, передо мной, как правило, возникал облик этой сильной, пленительной, убитой горем женщины:
(Продолжение - во вторник, 16 августа)
Автор: (Главы из романа Владимира Богомолова "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?")